3 октября родился Сергей Есенин
20:54 03.10.2022 16+
3 октября родился Сергей Есенин.
"Есенин — это концентрация художественной энергии в небольшом количестве строк — в том его сила и признак".
(с) Варлам Шаламов
"Бастей такого сочиненья и не найдешь, поди. Слова все до одного к телу прилегают и забирают всюё твою душевность... "
(с) Крестьянка Железникова Т.Ф. о поэме Сергея Есенина "Песнь о великом походе"
Серге́й Алекса́ндрович Есе́нин (21 сентября (3 октября) 1895, село Константиново, Рязанская губерния — 28 декабря 1925, Ленинград) — русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем периоде творчества — и имажинизма.
Есенинская тайнопись: «Россия… Ты понимаешь, Россия…»
«Славно! Конец неначинающегося романа!»
Текст: Игорь Фунт
Сергей Есенин. Великий русский поэт, давший ответ на многие незаданные в начале прошлого века вопросы.
Очи Оки плещут вдали. С. Есенин
Помяни мя, господи, егда приидеши во царствии твоём. Евангелие от Луки
Лёгкой жизни я просил у Бога, лёгкой смерти надо бы просить. И. Тхоржевский
*«...Мне несколько непонятно, почему ты вспоминаешь меня за пивом, не знаю, какая связь. Может быть, без пива ты и не вспомнил бы?» (из письма А. Сардановской — Есенину. 1914).
*Овсень, Таусень, Ясень, Ясность — вариантов много. И всё-таки этимологически скорее Осень — от однокоренной сербско-чешской Есени.
Начав текст, в рокерской памяти 80-х сразу же всплыл знаменитый московский озорной гуляка в исполнении одной известной тогда группы.
Подумалось: да, с одной стороны, многие, не знавшие или подзабывшие есенинскую «осень» в суете дней, вновь как бы встретили школьно-азбучного пиита; это неплохо. С другой стороны, бесшабашная мощная рок-обработка абсолютно выхолостила из отчаянно-искренних строф лирическую тайнопись, шифр. Посланный и современникам, и потомкам. И всему честному миру разом.
Стихотворением автор отвечает, можно сказать, на вопрос вопросов своего творчества и бытия в целом, падая ниц «под душой так же, как под ношею»:
Я обманывать себя не стану,
Залегла забота в сердце мглистом.
Отчего прослыл я шарлатаном?
Отчего прослыл я скандалистом?..
Отчего? — спрашивает. И тут же, в сжатой «тяжестью каменных слов», но чрезвычайно объёмной и плотной по качеству и насыщению форме итожит:
Я хожу в цилиндре не для женщин —
В глупой страсти сердце жить не в силе, —
В нём удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.
Всё просто. Он всего лишь прикидывается, прикрываясь цилиндром, сиречь общепринятым необходимым цивилизационным знаком — декартовским сомнением. Чтобы втайне приглушить, уменьшить глобально политическую, технократическую трусость-грусть: «...я часто трушу перед трудностями». (Свидетели указывали: цилиндр Есенину шёл как корове седло.)
И чтобы окунуться, пусть внутренне, ни для кого не заметно, в небольшое собственное человеческое счастье. Для которого откровение и, более того, истое евангелистское причастие состоит в посконных, обыденных, далёких и маленьких вещах. Где столько белых одуванчиков «смотрят в северное разумное небо» и «золотыми звёздами в снег» катятся собачьи глаза.
От невыразимой словами и непостижимой читательским разумом тоски — среди «чужих» и «толстых», постылых — приходится срываться в «шум»: в Луна-парк, ресторан, бордель... И служить, служить там неведомому, — заскорузлому и зачерствелому: — забытому всеми богу. И каяться. И страдать: «Христос указал только, как жить, но чего этим можно достигнуть, никому не известно... Я сам не могу придумать, почему это сложилась такая жизнь, именно такая, чтобы жить и не чувствовать себя, то есть своей души и силы, как животное», — пишет другу. Пространно намекая на бесполезность и символизма, и акмеизма, да и футуризма попутно. Ржавой шестернёй крутящихся в «старой гнусавой шарманке» прошлого — музыкальном ящике непотребства рабских сущностей: «...девушка пела в церковном хоре...» — мол, надо ли — светлое, блоковское. Кому, зачем?
Безродному, безропотному, куда податься:
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я здесь не нужен.
Строку словно подтверждает односельчанин «ве́рбочного херувима» — Сергей Соколов:
«Было немного странно смотреть на этого до глубины души русского человека, шагающего в модном заграничном костюме по пыльной деревенской дороге».
«Не я весёлый, а горе моё весело»
«Драма Есенина, — резюмирует после гибели поэта Горький. Не совсем, скажем мягко, разобравшись в сути проблемы. До того ли ему, сталинскому рукопожатному «решале», тогда было: — Это драма глиняного горшка, столкнувшегося с чугунным. Драма человека деревни, который насмерть разбился о город. — И затем, улавливая и вознося поверхностное, наносное, внешнее: — Друзья поили его вином, женщины пили его кровь. Он очень рано почувствовал, что город должен погубить его...»
Всегда говорил: от собственных сочинений ему самому ничего не достаётся. Стихи улетели, фьють, — загадочно вещал удивлённой публике. Внезапно уходя в себя, зависнув на мгновение в прострации. (Особенно разбросан, несобран последние месяцы жизни.) Публика, в свою очередь, недоверчиво-неистово продолжала настаивать типа вы — владелец грандиозного дара. И должно быть, наисчастливейший человек, душою приближенный к господу.
Скорбно ухмыляясь, терпеливо объяснял оппоненту, дескать, наизворот, я неизмеримо пуст и одинок — ведь виршей уже нет. Они по праву принадлежат другим людям. Чуть помедлив, уныло добавлял: ну, может, лишь в начале, когда энергия рифм только зарождается, я ощущаю прилив счастья...
Согласимся — показной, конъюнктурный Есенин, бьющий на эффект безудержной фикцией-небылицей. Одновременно понукаемый всемогущим Горьким за «парчовую» сусальность и фанаберийные повадки провинциального парикмахера, — затмевал скрытую от любопытных глаз жертвенную тайнопись тончайших сердечных струн. Рассыпающихся, источающих незримый эфир последнего эротического вздоха. Экстаз: «Отрок-ветер по самые плечи заголил на берёзке подол».
Грустный до боли, отравленный «святой» неизлечимой болезнью. Безысходностью. Задыхающийся без любви. От любви...
«Тяжёлая, безнадёжная грусть! Я не знаю, что делать с тобой. Подавить все чувства? Убить тоску в распутном веселии? Что-либо сделать с собой такое неприятное? Или — жить, или — не жить? И я в отчаянии ломаю руки, — что делать? Как жить? Не фальшивы ли во мне чувства, можно ли их огонь погасить? И так становится больно-больно, что даже можно рискнуть на существование на земле», — страстно пишет платонической пассии Марии Бальзамовой в 1912-м.
Буквально через пару-тройку месяцев — совершенно обратное. В послании Г. Панфилову: «...письмами её (упомянутой выше М. Бальзамовой, — авт.) я славно истопил бы печку, но чёрт меня намекнул бросить их в клозет. И что же... Бумага, весом около пуда, всё засорила, и, конечно, пришлось звать водопроводчика... Славно! Конец неначинающегося романа!»
Через месячишко снова на попятную: «Прости меня, если тебе обидно слышать мои упрёки, — ведь это я любя...» (Е.—Бальзаминовой. 1913)
Спустя полгода, ей же: «...эта вся наша переписка — игра, в которой лежат догадки, — да стоит ли она свеч?»...
Подобные экзорцистические выверты можно продолжать до бесконечности. С упоминанием разных дружков и знакомых. Бывших жён, приятельских подруг и легкодоступных фей, фрей (извозчичий диалект от «фрау») «на час»: «Что ты смотришь так синими брызгами? Иль в морду хошь?» — Через секунду: «...Дорогая, я плачу. Прости... прости...».
Быстро попав в обойму великих (будто предвидя, что отпущено лет десять) — Л. Андреев, Ауслендер, Белый, Брюсов, Блок, Тэффи и др. — Есенин, в фельдиперсовом «спинжаке» или пальто-пальмерстоне, сразу сильно встревожил вдумчивых, любящих и озабоченных его судьбой коллег-литераторов, «неразливных» друзей (Каннегисер (убийца Урицкого), «птица»-Ивнев, Мережковский, Сологуб, принципиально непьющий «Олонецкий гусляр» Клюев, оттянувший Есенина у первого его наставника — «патриотического пейзаниста» Городецкого) — невероятной вселенской приемлемостью. Пушкинской всеоглядностью и всеядностью. Ненасытностью. Хара́ктерной свидригайловщинкой, отметил бы я. Обретающийся всуе без повода, причин и разбору.
Без некоего резону, вдали от толп. Сверху, жадно всматриваясь в происходящее. Подобно нарицательному римскому Калигуле. Только есенинская власть распространялась не на людишек и неуёмный жар дьявольской похоти, как у Калигулы. А над сутью созерцательного эгрегора, «ментального конденсата»:
«Я пришёл на эту землю, чтоб скорее её покинуть...», «Жить — значит сгореть», «...только короткая жизнь может быть яркой!», «...сдохну под забором, на котором расклеивают стихи Маяковского» и т. д.
Ввергая тем самым уважаемых отечественных интеллектуалов в гиперинверсию недоразумения: «Русская удаль есть часто великое русское бессилие», — строго отзывается блестящая «дама в лорнетке» З. Гиппиус о проделках «Сергуньки». Получившего признание буквально в какие-нибудь несколько недель(!).
От клюевщины до распутинщины... Казалось бы, в 15-х годах начала XX века питерскую, петроградскую литературную тусовку — с клюево-городецким a-la russe; «жёлтыми» футуристами, «коммунистическим эгоцентристом» Маяковским; рестораном «Вена» с Куприным во главе стола; «Бродячей Собакой» со «свиной собачьей» книгой и осоловевшим от недосыпа Прониным на входе; поздне́й «Привалом» — трудно было чем-то удивить.
Но представьте.
В годину пулемётной трескотни, гудящих аэропланов, голодного пайка — приезжает девятнадцатилетний, бархатной шерсти «пастушок». С нездешней наружностью, фуляровым платочком и золотыми «флюидами»-кудрями. Спокойно и сдержанно слушает выкрики модернистов, выделяя лучшее. Без кандебоберов, не кобенясь и не увлекаясь мудрёными футуристическими зигзагами. И... сходу очаровывает «не солёную», по его мнению, публику, прежде всего своей непосредственностью, — пишет пресса: — идущей прямо от земли. Дышащей полем, хлебом и даже прозаическими предметами крестьянского обихода. Привнеся в литературу словно бы свежее дыхание неведомого доселе Праздника — именины сердца — взрывного, нового авангардного народничества.
Между делом, по́ходя, с частушками-прибаутками да под гармошку-ливенку (пел-горланил более четырёхсот припевок), тут же безнадёжно влюбляясь в революционерку Рейснер. На тот момент «занятую» поэтом-декадентом богатырской наружности, — без вариантов. (Впрочем, по «Лорелее» — Ларисе Рейснер — воздыхало по меньшей мере полсотни «дуралеев» — адвокатов, педагогов, стариков и моряков.)
«Был я в Москве. Молва о тебе идёт всюду, все тебе рады. Ходят и сказки. ...Только ты головы себе не кружи этой чепухой, а работай потихоньку, поспокойней...» (С. Городецкий—Е., 1915)
Ан нет...
Завязалась непрекращающаяся стилизованная, народно-поддёвочная «сказительная» гастроль-скороговорка.
С обязательным чмырём-первачом на посошок. Брошенным на поднос серебряным четвертаком — хозяйской подачкой «на дорожку». И чуть ли не цирковыми кордебалетами фальшивых косовороток и шароваров.
Пошла вереница графских «сред» и «четвергов», лорнированных истерическими выкриками сквозь сигарный дым: «Фи! Ничего смешного!»; с беснованием и апельсиновыми корками, летящими на сцену. Равно как с признательно-слёзными нетрезвыми блоковскими объятиями: «Стыдитесь, ведь перед вами прекрасный, настоящий поэт, быть может, будущий Пушкин!!!»
С противоположного края: «...вместо элегантного серого костюма на Есенине была несколько театральная, балетная крестьянская косоворотка, с частым пастушьим гребнем на кушаке, бархатные шаровары при тонких шевровых сапожках. Сходство Есенина с кустарной игрушкой произвело на присутствовавших неуместно-маскарадное впечатление. И после чтения стихов, аплодисментов не последовало», — читаем в дневниках Ю. Анненкова.
Милый, милый, смешной, дуралей
Ну, куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?
«...Смазливый такой, голубоглазый, смиренный... Что-то уж больно подозрителен этот лёгкий успех», — холодно недоумевал Фёдор Сологуб.
Любезно-равнодушный Кузмин, ледяная Ахматова, светский Гумилёв тоже не жаловали. Мережковские и вовсе, нелестными сравнениями, толкали Есенина в сумрачную бездну «достоевщины».
В свой черёд, играя и подстраиваясь, клоунничая и изображая то, что требовалось зрителю, он прекрасно понимал: «с ними нужно не сближаться, а обтёсывать, как какую-нибудь плоскую доску. И выводить на ней узоры, какие тебе хочется. Таков и Блок, — вседержитель Саваоф, грозящий пальцем. Таков Городецкий и все и весь их легион». — Вот!! — восклицаю я. Отсчёт, где возникла проблема. Проблемка... Перелом. Мeо voto.
Вот когда он, сверкая из-под «серебряных» локонов отнюдь не простецким покорным взглядом, начинает «загибать салазки» всем и всяким: учителям и пророкам, нытикам и «полубарам»:
Облаки лают.
Ревёт златозубая высь...
Пою и взываю:
Господи, отелись!
Оккультист Штейнер. Обвиняемый в хлыстовстве Распутин. Генерал Путятин. Империалистическая ли война. Санитарная ли служба подломили «Серёженьку» на корню. Отвергнув, отвернув от него половину либерального сообщества.
Как ни старался, он не мог скрыть армейского цикла стихов, посвящённого не абы кому — императрице! Ограниченным тиражом выпущенных в 1916 году. Занырнув-таки в запутанную круговерть достоевщины. Вменяемую и навеваемую ранее Мережковским с ненавидимой Есениным «гиппиусихой».
Человеку, спящему со сжатыми кулаками в мечтах о пролетарской революции. Другому, ему же — культивирующему дружбу с Царским Селом. Третьему, ему же — перебегающему через дорогу от «предрассветных российских» либеральных споров к Распутину и Путятину. Четвёртому, ему же — повествующему об ужасах деревни, одномоментно перемигиваясь с хитрованом-Клюевым: надуем, брат, городских фраерков. Осталось только, куда деваться, по просьбе благодетеля Путятина, накатать-настрочить оду на именины... царю! Тезоименитство.
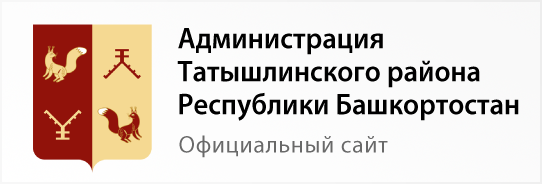
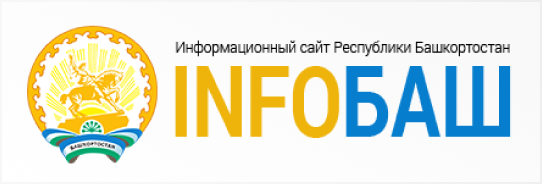

Оставить сообщение: